В 2020 году мы вместе со всем миром узнали, что такое масштабная эпидемия. Новый коронавирус, название которого писали уважительно капсом и на латинице – COVID – занимал всю новостную повестку и заставил нас прочувствовать страх предков перед опасными инфекциями.
Человечество болело всю свою историю, продолжает болеть и будет болеть дальше. Какие-то хвори уже позабыты, другие даже не появились. Но будем надеяться, что как раньше мы побеждали инфекции, так и останется впредь.
А сегодня давайте вспомним, чем страдала Тверь в прежние времена.
Чума: привет из средних веков
Время от времени в СМИ появляются страшилки на тему «спящих в земле» бактерий и вирусов, оставшихся от эпидемий прошлого. Особенно часто любили о них вспоминать в самый пик ковида, когда сидящие на карантине люди жадно поглощали любые сведения о болячках, а бесчисленные «эксперты» пересказывали статьи из «Википедии» и сенсации от сомнительных ресурсов.
К примеру, у нас в городе чуть не поднялась паника весной 2020-го, когда в сети появилась информация, что будто бы из-за строительства на месте старого Неопалимовского кладбища может вернуться холера, а то и чума. Шокирующая новость прогремела по тверским пабликам, сайтам и, конечно же, кухням с курилками.
Пришлось вмешаться экспертам, уже настоящим, а не диванным. К примеру, известный тверской историк и краевед Павел Иванов сообщил, что средневековые чумные кладбища на территории старого города есть повсюду, и мы чаще всего даже не знаем, что у нас под ногами. А что касается Неопалимовского кладбища в Барминовской слободе в Затверечье, то там, согласно открытым источникам, не хоронили умерших ни от холеры, ни от чумы.
– Возможно, есть какая-то секретная медицинская карта, – заметил тогда исследователь. – Но я с ней не знаком.
Павел Иванов уточнил, что после знаменитой московской эпидемии чумы 1771 года, которая потрясла Екатерину Вторую, по всей империи было приказано закрыть в городах кладбища при приходских церквях и хоронить в новых местах, на расстоянии от застройки. Так, впоследствии для умерших от холеры в 1831 году было выделено место за Московской заставой, сегодня это черта города. Впрочем, к холере мы еще вернемся позднее.

Что же касается чумы, то она, как мы знаем, была настоящим бичом человечества в средневековье. Эпидемий было так много, и случались они так часто, что перечислять их все не имеет смысла – мы с вами только заснем от большого количества далеких от нас дат. Разве что стоит отметить несколько «моровых поветрий», от которых погибали даже князья.
К примеру, чума 1364–1365 годов унесла в могилу Всеволода Александровича Холмского и Семена Константиновича Клинского (Дорогобужского), а также еще ряд родовитых тверитян. Очередная волна, прокатившаяся в 1417–1425 годах (так называемый «Настасьин мор»), за один только 1425-й выкосила сразу троих князей – Ивана Михайловича, Александра Ивановича и Юрия Александровича. Три поколения! И лишь брат Юрия, Борис Александрович, правил с 1426-го по 1461-й. А в 1467-м – новый виток чумного поветрия. От болезни тогда умерла Мария Борисовна, сестра князя Михаила Борисовича и первая жена московского царя Ивана III.
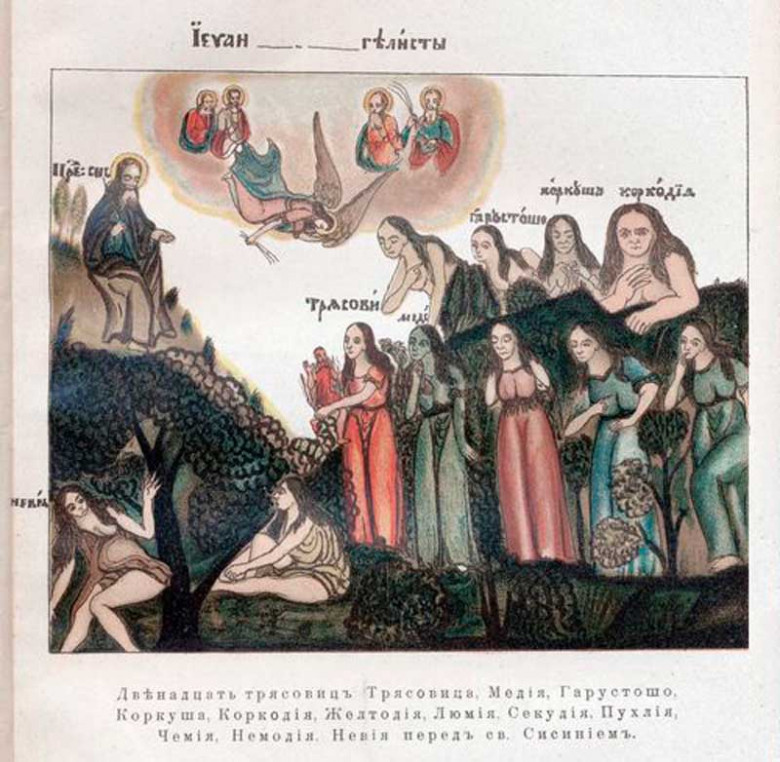
Вдоволь чума погуляла по нашей земле в середине XVII столетия – в 1654–1655 годах. Пришла она с востока, скорее всего, из Персии через Крым. Когда пишут об этой эпидемии и рассказывают о ее опустошительной силе, как правило, имеют в виду Москву. Столица действительно пострадала, и в 1654 году царской семье фактически пришлось эвакуироваться в Макарьев монастырь, будущую жемчужину Калязина. Самого города тогда еще не было, на тот момент это пока только сама обитель и окрестные слободы. Вместе с царицей Марьей Ильиничной и годовалым Алексеем Алексеевичем (сыном Алексея Тишайшего) находился в монастыре и патриарх Никон.
Однако вскоре чума разошлась и по другим русским землям, досталось и Твери с окрестностями. Летом случаи мора уже фиксировались в Торжке и Кашине, потом дошло и до Твери, где уже к зиме болезнь выкосила чуть меньше половины населения – Павел Иванов приводит значение 46%. Понятно, что в абсолютных цифрах это не очень большое количество по нынешним меркам, однако для вчерашнего средневекового города потери значительные. Просто представьте, если бы так было сейчас…

Всего же в стране тогда умерло от 25 до 30 тысяч человек. Но эта эпидемия многому научила наших предков, например, тем же санитарным кордонам. И опыт был учтен во время чумы 1771 года, которая серьезно затронула Москву, но в Тверь ее, к слову, не пустили.
Холера: Болдинская осень всей России
Девятнадцатый век остался в истории в числе прочего как «холерный». Шутка ли, это опасное заболевание лихорадило мир целых пять раз! А вообще, даже шесть – просто очередная пандемия перешла уже в двадцатое столетие. И это не считая многочисленных локальных эпидемий.
Первая холерная пандемия, начавшись в районе индийской Калькутты, прокатилась по миру с 1817 по 1824 годы. Россию тогда зацепило слегка – случаи заболевания регистрировались в Баку и Астрахани. Точные данные о погибших в мире отсутствуют, но по разным оценкам умереть могли от сотен тысяч до миллионов людей.
Вторая пандемия началась всего через несколько лет, в 1829-м. И уже этой волной накрыло нашу страну. Холера пришла в Российскую империю в 1830 году и буйствовала в следующем, 1831-м. В истории нашей страны это была первая вспышка, и погибло от нее свыше 197 000 человек. Огромное количество по тем временам! Да и по нынешним, если честно, тоже.
Напомним, опасность этой болезни в том, что она переносится через воду. Вот почему у Тверской губернии просто не было шансов избежать эпидемии – в то время как раз широко использовалась Вышневолоцкая водная система. Холера пришла из низовий Волги, с Каспия, а рядом с Тверью исторически располагалась Москва, где сходились торговые пути. Там она появилась в августе 1830-го.
К счастью, в России болезнь не проспали – уже 23 августа государь Николай I подписал указ о введении карантинов, именно они задушили болезнь в древней столице. Сам император решился на рискованный шаг: в сентябре он находился в Москве, поддерживая и подбадривая народ. А после этого сам проходил карантин в Твери, в Путевом дворце. У нас Николай I находился с 7 по 18 октября, и когда стало ясно, что ни он, ни сопровождающие не больны, отбыл в Санкт-Петербург.

Массовые мероприятия в это время в Твери практически не проводились, а с Покрова (14 октября) и до Рождества (7 января) семинаристов отправили по домам. Казалось бы, тверитяне и москвичи пересидели холеру, вот только весной она разгорелась с новой силой. Все публичные и присутственные (то есть государственные) места были закрыты, ни о каких празднествах и гуляньях речи не шло, и даже торговлю остановили. Москву оцепили войска.
Увы, на сей раз с карантином уже не успели, и в июне холера пришла в Тверь. Губернатором в то время был Кирилл Тюфяев, о котором современники отзывались по-разному, но во всяком случае он активно пытался задушить болезнь. Другой вопрос – как… Он не перекрыл дороги, город не заперли на карантин, зато если уж кто-то заразился, об этом быстро становилось известно. Вокруг тех домов, где хоть один жилец умер от холеры, выстраивалось оцепление, а священников не допускали для причащения больных. Кроме того, Тюфяев создал губернский холерный комитет, что-то вроде оперативного штаба по современным понятиям. Случались и откровенные перегибы – как пишет Павел Иванов, порой в одну телегу с уже умершими от холеры складывали еще живых и везли на кладбище, где закапывали. Естественно, что это порождало реакцию: родственники холерных больных подкупали полицию, чтобы та фиксировала смерти от других недугов. И если жертв эпидемии хоронили на специально выделенном участке за Московской заставой, то в этих случаях мертвые попадали на обычные кладбища. Стоит ли говорить, что это серьезно осложняло борьбу с холерой?

Кошмар заключался в том, что летальность тогда составляла до 40%. Помните число жертв – 197 тысяч человек? А всего тогда в России только по официальным данным холеру перенесли 466 тысяч. Следующие вспышки болезни уже были в целом не столь смертоносными, однако нельзя сказать, что переносились они легко. Да и в разных частях империи ситуация порой сильно отличалась. Так, в отчете тверского губернатора Александра Бакунина сказано, что из 17 407 заболевших умерли 9 739. Нетрудно подсчитать, что это больше 50%. Здесь статистическая погрешность оказалась не в пользу нашей губернии.
В самой Твери, согласно данным Ивана Лажечникова, писателя, который в те времена был нашим вице-губернатором, погибла 1/15 часть всего населения. Эти цифры являются неподтвержденными, однако сам факт, что Лажечников, будучи в таком высоком звании, бежал в деревню, «павший духом и телом», заставляет задуматься. Если взять за основу численность от 1840 года, то это 17 100 человек, и 1/15 – это 1140 погибших. Как бы то ни было, данные от 1856 года говорят о еще меньшем числе жителей Твери – 12 900. Вряд ли столь большая разница напрямую зависит от холеры, однако свою лепту она точно внесла.
Впоследствии холера не раз еще возвращалась в Тверскую губернию, но ее кровавая жатва уже не была столь опустошительной.
Тиф, «испанка» и другие: спутники разрухи
Первая Мировая, а также последовавшие за ней революция, гражданская война и разруха принесли России огромное число бед. Никто до сих пор не может точно назвать число жертв тех трагических лет. Об этом и говорить страшно, но умерших порой в буквальном смысле почти не считали…
Голод, вооруженное противостояние и бандитизм дополнялись всевозможными эпидемиями, и в первую очередь принято говорить об «испанке». Пандемия того самого гриппа считается самой страшной в истории человечества, так как им переболела треть тогдашнего населения земного шара (550 млн человек). Число жертв при этом оценивается минимум в 12,5 млн и максимум – в 100 млн!

«Испанка», она же грипп H1N1, бушевала с 1918 по 1920 годы (по некоторым данным, с 1916-го) и охватила всю планету. Однако в нашей стране она просто добавилась к ряду других инфекций, свирепствовавших на территории бывшей Российской империи – тифу, холере и даже оспе. Отечество тогда в прямом смысле лихорадило.
В газетах того времени можно было нередко встретить некролог с причиной смерти «сыпной тиф». А в 1920-м, когда Тверь ожидала прибытия голодающих детей Поволжья, в городе объявили «неделю чистки» с целью не допустить вспышки холеры. Проходило это мероприятие в сентябре, а до этого, в конце августа, состоялось расширенное заседание Губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с холерой. В итоге собравшиеся установили создать «санитарные тройки», наделенные особыми полномочиями, и входить в них должны были представители Кварткома, медучреждений и милиции. «Для лучшей постановки дела», как писали в «Тверской правде», город разбивался на 8 городских и 3 фабричных района. Фактически это была своего рода санитарная мобилизация – в «Неделе чистки» участвовал весь городской транспорт и все трудоспособное население города.
Что же подразумевалось под «чисткой»? Достаточно прозаичные меры: ликвидация гор мусора, хлама и навоза, а также приведение в порядок переполненных выгребных ям. Впрочем, в той же «Тверской правде» даже нашлось место сомнительным поэтическим сравнениям – журналист говорил о «стоках и водопадах нечистот, выливающихся на улицы и заполняющих площади». Еще весной того же года предлагалось ломами и лопатами откалывать примерзшие фекалии и «вывозить их с возчиками за пределы города».
Но самое главное, уже тогда много говорилось о соблюдении гигиены: «Каждый должен знать, что антисанитарное состояние дворов – верный питомник холерных вибрионов». Опять же сложно судить о количестве заболевших и умерших, так как само время не было расположено к точной статистике. Но, к примеру, на начало сентября 1918-го газеты сообщали о 141 погибшем от холеры с начала эпидемии. А бюллетень от начала февраля 1919-го содержит данные о 14 умерших от сыпного тифа (тоже с начала эпидемии). При этом на 18 февраля того же года (то есть всего через две недели) публикуются данные уже о 25 жертвах сыпного тифа. И это только город Тверь, не вся губерния!
Сейчас нам уже сложно представить такое число погибших за столь короткое время, да и названия старых болезней звучат довольно экзотично. Вот только всего сто лет назад они буквально выкашивали наших предков. И смерть от холеры или тифа в Твери пусть и не была обыденностью, однако не была и чем-то из ряда вон выходящим. Город болел, город страдал, город умирал. Но в конце концов победил ужасные недуги.
Следующий скачок заболеваемости в нашей стране произошел во время Великой Отечественной, и на то, понятно, были причины. Но в послевоенный период СССР практически победил натуральную оспу, возвратный и брюшной тиф, холеру и малярию. Потом, правда, с этой гадостью медикам пришлось столкнуться в восьмидесятых годах – во время Афганской войны, когда массово болели наши солдаты. Впрочем, речь тут идет о территории самой Демократической Республики Афганистан (ДРА), на территории самого Союза вспышек не было.

А в 2020-м пришел ковид. Но об этом мы уже знаем и повторяться не будем. Главное, чтобы не заглянуло на огонек что-нибудь новое и опасное.
Сергей САВИНОВ
Что еще почитать по теме – Эра милосердия: кто создал тверской Больничный городок








